Платок

У бабушки был похожий, черный с красными розами и россыпью незабудок. С одной стороны платок изрядно поблек, и накидывала бабуля его яркой стороной вверх. Это было единственное её украшение. И единственное не потому, что ей некому обновы покупать. Бабушка родила семерых детей. Благополучно вырастила их и еще столько же племянников, принятых в семью. Четырнадцать детей! Представляете? Пока росла, я и не знала, что в семье кто-то принят, да и сами дети, думаю, до точности не ведали, кто взят, кто рожден.
Обычная семья. Просто очень большая: полон двор внуков, вечный шум, вечные здоровенные ведерные чугунки супа, кастрюли с кашей на печке. До сих пор стоит сказать «бабушка» и видится она мне возле огромной печи, в неизменном черном платке с поблекшими розами.
Платок бабуля носила по-разному. На плечи набрасывала, туго заматывала вокруг шишки «до последу» густых волос. А зимой в него вкладывалась пуховая косынка, и таким образом он вполне заменял шапку. Идея подарить бабушке на день рождения новый платок появилась, когда мне было лет двенадцать. Отец выслушал и «скис лицом»
– А толку-то?
Дарили бабуле совершенно скучные вещи: кастрюли, сковородки, холодильник, плиту, утюги, телевизор...
Но денег отец дал, я до сих пор помню ощущение «богачества» от лиловенькой (или бордовенькой?) бумажки номиналом в 25 рублей. В субботу отправилась покупать бабушке платок. Мне хотелось, чтоб это был грандиозный, небывалый, красный, синий, какой угодно, но не черный платок. И чтоб непременно с люрексом.
Магазинов, где это можно было приобрести в райцентре, а жили мы тогда в райцентре, целых два - «Галантерея» и «Универмаг». В первом мне предложили на выбор клетчатый шерстяной и беленький ситцевый с синими меленькими цветочками. В «Универмаге» же еще порадовали непроницаемо-зеленым совсем без рисунка...
«Для бабушки самое то!» – убеждали. Не для моей бабушки. Я хотела с люрексом. Меня же уговаривали, что «с люрексом достать трудно, разве что у перекупов или с подвоза», что «бабушки не носят блестящих платков», что, в конце концов, это непрактично – люрекс холодит, а бабкам надо теплый, просто теплый, что им красота – отжили уж... Совали под нос блекло-синие, беленькие, серенькие, даже одну пуховую косынку. Но все это было не то! И когда все надежды были разбиты, и я готова была ретироваться, тетка-продавщица осторожненько поинтересовалась:
– А деньги-то у тебя есть?
– Вот! – продемонстрировала я с гордостью заветную бумажку.
– Идем! – и мы пошли в таинственный мир советской торговли по коридору, заставленному коробками, в какую-то не менее таинственную «подсобку». И там, в полумраке, освещенном тусклой лампочкой, продавщица извлекла сверток в коричневой бумаге
– Себе брала, с люрексом.
Это и было «самое то, что надо». Он не поблескивал редкими искорками, нет, он весь глянцево блестел, как лист отполированной стали. Определенно, это был не платок – это было чудо. Размер такой, что меня в него можно было запросто запеленать, кисти тоже имелись, и розы наличествовали. Это ярко-красное диво даже в сумраке подсобки слепило глаза. И мой «четвертной» тут же без раздумий перекочевал к продавщице. Мне до сих пор интересно – надула она нас или нет? И сколько же стоил этот китч с люрексом и кистями?
Прижимая к груди сияющее чудо, я явилась к бабуле в ближайшие выходные. Подарок был вручен под восторженные охи и ахи всей родни. Платок передавали из рук в руки, разглядывали, любовались. Кто-то из дядьев пошутил, что бабушку в таком платке надо срочно замуж выдавать. И кинулись предлагать наперебой женихов.
– Хороший товар, – согласилась бабуля (она почему-то любую ткань называла товаром) – Плотный.
Передразнила хохочущих детей:
– Гы-гы-гы, собрались жеребцы поржать над матерью.
– Баба, ты померь, а? - попросила я снизу-вверх, заглядывая в родное лицо
– Да че ж такую красоту зря трепать? Я уж по праздникам носить буду. А счас-то и в этом, – бабуля поправила свой старый черный платок, – хорошо.
– А ты точно носить-то будешь?
– А как же, буду, буду! – поспешила она заверить.
И я успокоилась. Успокоилась, хотя отец как-то странно хмыкнул, услышав про «в праздники носить».
А в апреле в своем, то есть бабушкином новом платке, я увидела... тётю Таню. Мою беспутную, но очень веселую тётку. Она была младшей в многодетной семье и по возрасту особо от старших внуков не отличалась. «Беспутая» – звала её бабушка. «Татьяна – с утра пьяна», «Наказание господне». А в минуту ярости можно было услышать словечки и покрепче.
Теперь-то я понимаю, что Татьяна была единственным браком среди четырнадцати своих и приемных детей. И как сей брак случился в работящем, малопьющем, крепком роду, остается только гадать. В семье не без урода, что еще сказать.
В 15 лет она родила дочь – бабушка говорила – от Ветра Ветровича. Дочку назвала Альбиной и записала «Петровной» – по деду. Так у меня появилась сестра-одногодка. Более того, мы и родились-то, практически, в один день. Очень естественно, что Альбинка осталась у нас, когда Татьяна рванула в пампасы и там потерялась. И мы с Альбинкой про неё и не знали, убежденные, что близнецы, но разными получились. Пока Танька не появилась на горизонте. Я хорошо помню, как почему-то плакала мама, а отец собирал Альбинку. Куда? Почему без меня? Но год Альбинку носило где-то с тётей Таней, а потом забирать её пришлось уже из детской комнаты милиции, аж в Чите, за восемьсот километров от дома. И сестра поселилась уже у бабушки. Мне и Альбинке с тётей Таней общаться было намертво запрещено. Потому как «Танькины кобели и обидеть могут, им, спьяну, на кого прыгнуть, разницы нет».
Татьяна же особо к дочке и не тянулась, еще полетав по пампасам, она осела в селе, притихшая, почерневшая, и все также без меры пьющая. Ни на одной работе она не держалась. И периодически терялась в поисках счастья. Но счастье все никак не находилось и тётя Таня возвращалась обратно. Братья и сестры знать её не хотели. Альбинка звала её «Таней», именуя бабулю «мамой». На шумных многолюдных семейных праздниках «Таня» не появлялась. Она обычно приходила наутро после бабушкиной пенсии. Говорили ли они? Не знаю. Бабушка выпроваживала нас с Альбинкой в дальнюю комнату, и мы сидели там, как мыши, чтобы «Танька с дуру дочь не потребовала». Но в окошко отлично было видно как уходит Татьяна, нагруженная кульками и свертками, как крестит её бабуля, сжав губы в узкую скорбную нитку. И детском же мозгу накрепко отложилось, что Татьяна – вечное зло, расстраивающее нашу бабулю.
Вот почему увидеть на её плечах мой платок было сродни удару под дых. Мы сцепились с теткой прямо на сельской улице, я тянула платок с ссутуленных плеч, Татьяна матерно ругаясь, держала платок, как утопающую случайно подвернувшуюся в бурном потоке доску.
– Это бабин, бабин, бабин! – рыдала я в голос.
Танька частила скороговоркой, зло и жестко про нас, зажравшихся, про детей начальников, про брата-сволочь на райкомовской «Волге», и про его жену, и про бабулю, отнявшую кровиночку-дочечку...
Меня попытались оторвать, но куда там! Я мертвой хваткой держала по счастью крепкую ткань платка... И разжала пальцы, только когда на шум прибежала моя бабуля. Помню до последней черточки и буковки, как очень четко она сказала:
– Отдай, внуча. Отдай.
И сказано это было так, что пальцы сами собой разжались. Но прорыдала я еще часа два, бабушка сидела рядом и «виноватилась», отирая концом черного платка бегущие слезы.
– Она же дочка мне, дитя мое...Как папа твой, как Надюшка, как Юля... Дочка... Беспутая, ну что ж, беспутая, дочка... Больное-то дитя больнее болит… Прости уж ты меня, прости.
Отец приехал за мной к вечеру. Каких-то особых слов не сказал, утешать не пытался. Так заметил вскользь:
– Я ж говорил – бестолку ей новое брать. Всё там будет. И все пропьется. Мать есть мать, любит она её…
И я, не понимая, а как можно эту Таньку, вот такую – наглую и пьяную любить, почему-то очень остро пожалела бабушку. Пожалела, седьмым или десятым чувством, постигая до поры сокрытое возрастом – есть материнская нерассуждающая любовь. Любовь, для которой и начальник на райкомовской «Волге», и кукушка Танька, равны уже по праву рождения. А, может даже, Танька – ровнее, потому как больное дитя больнее болит...
Много лет минуло с той поры. И нет уже на свете бабушки. И куда-то сгинула разбитная тётка Таня, да и Альбинка давно уже Альбина Петровна – мать троих детей. Многое минуло. Но платки обожаю до сих пор, их у меня целая коллекция, а вот носить не могу. Всё кажется – не свое ношу...
Наталья Ковалева

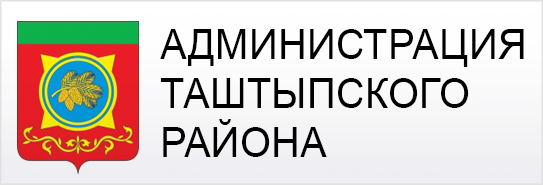

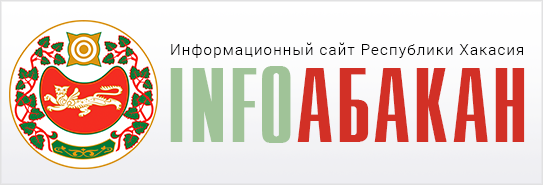
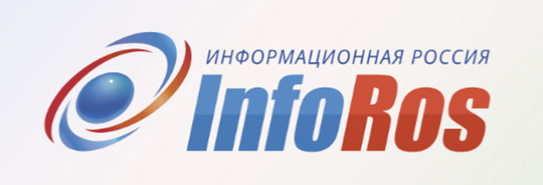
Оставить сообщение: