| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | USD | 26.04 | 82.65 | 0.21 |
| ▲ | EUR | 26.04 | 94.36 | 0.35 |
Белый домик на курьих ножках…

– Бабой Аней меня зови, идем уборную покажу.
Уборную прежде комнат показывала баба Аня, наученная горьким опытом – неблагоустроенное жилье арендовать не спешат даже студенты-заочники из деревни. Сессия – всем хочется хлебнуть не столько знаний, сколько цивилизации и свободы.
Но у меня выбора не было. Баба Аня меня на улице подобрала.
– Жить негде? – не столько спросила, сколько утвердила она. – Бери свои баулы – и за мной.
Так и оказалась я в белом домике на курьих ножках. Когда-то жилище решили поднять, поддомкратили, оторвали от земли, сложили под углами стойки из кирпича, а подлить фундамент забыли. И дом так и остался стоять на красных подпорках. Зимой под домом гуляли ветры, вьюги, и полы промерзали настолько, что кошачья миска за ночь затягивалась тонкой пленкой льда. Баба Аня застилала полы домоткаными дорожками, какими-то одеялами-покрывалами и кочегарила печку по двадцать четыре часа в сутки. Точнее, студентики кочегарили.
У бабы Ани было два способа сдачи комнаты:
– Помогашь? Или деньгами?
Ясно, что большинство жило «за помогашь».
– Мне пенсии хватает. Мне одной тяжко, – объяснила баба Аня.
Когда её студентики кончались, она шла к центральному корпусу университета в Абакане и «высматривала» новых квартирантов. Так и жила, тем и жила.
«Одиночество» – слово какое-то обреченное... А баба Аня была веселой. По субботам мы топили баньку, парились, насколько позволяло здоровье. Потом следовал ритуал «наливочка с парка». И баба Аня кидалась в воспоминания:
– Войну в санитарках встренула. В Красноярске. С утра, пока больные спят, полы мыла. И что-то так муторошно стало. Я понять не могу, а давит и давит. Будто кто родной умрет. Помыла полы, пока время было, пошла в скверик посидеть на лавочке. Там и увидела, что народ бежит куда-то, сказали, война. Хотела к репродуктору на площади пойти, а ноги как отнялись. Страшно стало. Я уже немолоденькой была. Двадцать два, многое понимала. А были такие, что радовались. Вот покажем фрицам. Мы в бараках тогда жили, сосед мой – молоденький мальчишка, радовался, что успел школу окончить и в армию заберут. Повоевать хотел… Не вернулся. Так и сгинул.
Лихо намахнув пару стопок, баба Аня начинала выводить когда-то сильным голосом:
– Несе Галя воду, коромысло гнется, а за ней Иванко, як барвинок вьется…
Муж у бабы Ани был украинец.
– А ты что ж думаешь, я его любила? И-и-и-и, какое там, девка. Мне ж уже двадцать четыре было. Все вокруг воюют, мужиков повыбило, бабы, ребятишки, деды, да те, кто с бронью, а за ними бабы в очередь. А мне ребеночка хотелось. Ну, я ж не дура, понимала, когда война кончится, молодые девки нарастут. Так хоть налюбиться, может, после и случая не будет.
Откровенность бабы Ани сражала наповал. Обычно с возрастом собственная целомудренность становиться дороже, чем в пору горячей юности. Много ли вы знаете бабушек, что так запросто скажут: «А не любила, ребеночка хотела и налюбиться, вдруг после и случая не будет»?
И баба Аня стала искать случая. Благо работала в госпитале. Надо сказать, в Красноярске в годы войны действовало шесть десятков госпиталей. В одном из них и была баба Аня, а тогда просто девка-перестарок Нюра, и сиделкой при лежачих, и нянечкой, и прачкой, и водовозом, и бог знает кем еще.
Среди выздоравливающих Нюра себе наметила кавалера, звали Василием. Красивый, чубатый и разговорчивый – девичья сухота. И он был не против, даже как-то подарил чахлый городской одуванчик с намеком на продолжение.
Но тут привезли в госпиталь паренька с сильнейшей контузией позвоночника. И заполонила Анино сердце жгучая, беспощадная, всесильная бабья жалость. Еще бы, девятнадцатилетний парень, что не то что ходить, сидеть не мог. Сто раз представляла себе их встречу.
– Как тебя зовут?
– Мыкола звати.
– Коля, значит. А я – Анна.
– Ганна?
– Пусть будет Ганна.
– Глаза у него синющие были. Это я после разглядела, а до того-то только подумала, как такого бугая обмывать, ведь перевернуть надо. А во мне весу – три пуда не больше. Но куда деваться, пошла. Он меня увидел и заявил: пришлите старую, этой не дамся. Наши врачи его быстро на место поставили. И вот я его обмываю или переодеваю, а он глаза зажмурит, крепко, аж до слез, чтоб меня не видеть и терпит. Стыдно ему, видишь ли, что его хозяйство обмываю. И давай я его уговаривать, чтоб не стыдился. Братец у меня такой же, где-то воюет. И я старая уже на самом деле. Нарочно еще платок подвяжу как старуха, чтоб ему не так было неловко... Давай его расспрашивать, откуда он, что, как ранило, да есть ли кто из родных. Зубы заговариваю. И сдружились мы. Минута если есть – забегу, у нас огород был свой и коза. Я ему гостинцы какие могла приносила. Сладкое любил, ой, любил. Жалела я его. Врачи говорили, если до весны не встанет, то уже и не встанет. И я так боялась, что как объявят ему, что калека он, Колька на себя руки и наложит. Старалась, чуть что к нему зайти, одного не оставлять.
А дальше было то, что было, мечтающая о страстной ночи Анна, созревшая, полная сил и желания родить дитя, отказала красавцу Василию. Почему? А кто его знает.
Женская любовь – штука непонятная, мы и сами не знаем, где исток её и в чем. Бывает в силе любимого, а бывает – в его слабости и даже беспомощности...
Николай на ноги встал. Даже не к весне, пораньше. Анна теперь тягала тяжелые тачки с мокрой одеждой на берег Енисея – полоскать. А Коля шел следом.
– Сперва двадцать шагов провожал, после пятьдесят, а потом и до берега доходили. Вот такие наши первые свиданки и были. Я тачку качу, он следом телепается или рядом идет и за меня держится. Я белье полощу, он на передок тачки присядет и ждет, а то ноги ослабнут, усажу я его на тачку и качу. Других-то случаев наедине побыть не было.
А весной Коля отправился на фронт. Перед отправкой и были у них всего-то четыре ночи, те самые, о которых Анна мечтала. Провели они их в комнате у Анны. И чего в той любви было больше: боли или радости, надежды или страха?
– А я и не думала, что вернется он ко мне. Он же на пять лет моложе! И захочет вернуться, это же через всю страну, ко мне. Неужели дорогой не встретится ему, такому ладному, кто из девок получше, чем я. Может, потому я и не стеснялась, когда уж было мне скромничать-то. Сразу на двоих и постелила нам. Хоть ночь, да моя.
И полетели письма, писала Анна регулярно, а он отвечал.
Николай вернулся к своей Аннушке в сорок пятом, дойдя до Берлина. Вернулся с наградами. Повзрослевший и возмужавший. Вернулся еще потому, что на родной Украине в живых не осталось у него никого. Сам он освобождал свою деревню, видел пепелища, печные трубы. И колодец, который снился Николаю всю жизнь, доверху набитый телами людей. Наклонились солдаты воды зачерпнуть, увидели спину в гимнастерке.
Месяц счастья был у Анны и Николая. Они даже расписаться не успели.
– Забрали Колю. Он в плену успел побывать. Да был-то всего три дня. После утек ночью и к своим же вернулся. Ему бы молчать, что был он в том плену, нет, он честно сказал. Его вроде и простили тогда, а после припомнили.
И загремел Николай как изменник Родины на десять лет. Баба Аня и статью называла «58, 1-б». Победитель попал в Норильлаг. В победном 1945-м. Решали тогда быстро, не тянули – на строительство Норильского комбината требовались руки. Их вот так и нашли. Осужденных везли на барже. Во время этапа Николай и умудрился передать своей Аннушке записку. До невесты она дошла, но...
Год с лишним никаких известий Анна о Николае не получала. Обивала пороги суровых ведомств, а ей отвечали:
– Ты что, дура, следом хочешь?
– Хочу.
Грело душу только то, что после войны уже не так часто расстреливали. Даже изменников с 58-й статьей.
И только через год передали Анне записку: «Жив. 10 лет. Не жди. Николай». Нацарапанное химическим карандашом на обрывке плаката письмо добиралось до Анны через бог знает, какие по счету руки.
Анна ждать Николая не стала – отправилась следом. Тем же буксиром по Енисею и северным рекам, за Полярный круг.
И нашла, а после четыре года жила рядом с лагерем. Чтобы хоть краем глаза увидеть, и хоть кусок хлеба суметь передать. Не одна она была там такая – ждущая. Матери, жены, подруги... Вот уж точно «путь мужской слезою бабьей на века омыт».
Устроилась Анна нянечкой в больницу. Востребованная оказалась специальность.
– С войны четыре года ждали, а я семь лет, – говорила баба Аня.
Через четыре года Николая перевели в поселенцы, дали добро на соединение с семьей. И была у Ани долгожданная свадьба. И царский подарок – шмат сала да ведро картошки. Даже платье было подвенечное, перешитое из двух медицинских халатов, «солнышком хотела, не хватило ткани, четырехклинкой вышло, но тоже красиво».
Еще шесть лет провели Анна и Николай в Норильске. Он – строителем, она – нянечкой, а вечерами тайком подрабатывала портнихой.
В 1956 году вернулись они в Абакан. Вот тогда-то в 1956 году и решили строиться. Взяли участок, поставил Николай домик на четыре комнатки. Взялся за времянку и вдруг стремительно стал слепнуть. Не прошла даром каторга в условиях вечной мерзлоты. Месяца не прошло, как синющие глаза заволокло тьмой.
Да, если верно утверждение, что Господь не посылает больше того, что может вынести человек, то какова же мера выносливости была у этих двоих? Потому что и тут не сломались, и тут справились, и уперлись, и выжили. Полгода Николай пролежал дома, отвернувшись к стене. А потом Анна стала потихонечку выводить своего Колю в свет.
– В воскресенье в парке оркестры у нас играли, я и давай Николая туда тянуть. Он сперва ни в какую. А я ему – что это я одна в парк пойду как разведенка? Все с мужьями, а я одна? Нагладила костюм ему, под ручку взяла и повела.
И Николаю прогулки полюбились, часами мог музыку слушать, а как-то сказал:
– Мне б гармошку, Аня, я бы может как-то освоил.
Аня отправилась за гармошкой – даже если не освоит, то хотя бы на какое-то время отвлечется от своей беды. В магазине попросила с такими кнопками, на каких может слепой играть. И услышала от продавца, что дело не в инструменте, главное, нотную грамоту освоить. Есть такая азбука Брайля, специально для слепых. И он может достать и ноты, и азбуку. Пусть муж сначала азбуку освоит, а там и ноты с гармонью. И не обманул – достал. Денег не взял, тогда еще умели помогать просто так.
Мне баба Аня после рисовала, уже сама полуслепая нотный стан и буквы по Брайлю: точки, точки, точки... Многоточия любви.
– Ишь, наизусть все помню. Сколь мы с Колей-то учили. Они наощупь определяются. Эти точки. Не получалось сначала. А потом Коля даже на свадьбах зарабатывал, на праздники звали играть. Ох, хорошо выводил! Сам играет, сам поет! Я даже ревновала его. Как на празднике, так женщины обступят, и давай: «Коля, ту сыграй! Да эту сыграй!». Зря ревновала, мы хорошо жили! Дружно! Вот деточек бог не дал. Застудилась по молодости, белье стирая. Плохо. Тяжело сейчас одной.
Да, хорошо жили. Наверное, и половины того, что выпало на долю этой пары достаточно для того, чтобы живописать историю страданий.
Но баба Аня твердила: «Мы хорошо жили, ой, хорошо!» И у меня нет повода ей не верить. У каждого мера счастья и несчастья – своя.
Николая не стало в 1985... Сердце не выдержало. Гармошка его навечно встала под бархатную тряпицу. Иногда баба Аня доставала её.
– Успеть бы голос её услышать хоть разок еще.
Не успела.
Приехала в очередной раз на сессию, а в доме уже другая хозяйка:
– Если насчет комнаты, то никак, мы участок продаем. Хороший участок в центре города почти...
Да, сейчас, если бы и захотела, то не нашла бы среди выросших высоток белый домик на курьих ножках. Но в памяти баба Аня осталась, таких трудно забыть. Точнее, таких нельзя забывать. Иначе потеряется что-то важное, жизненно необходимое, эталон высоты звука, жизни, поступков, совести. Сгинет, как белый домик, под нашествием однотипных высоток.
Наталья Ковалева


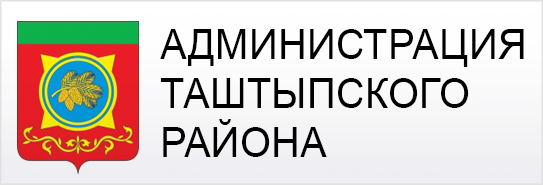

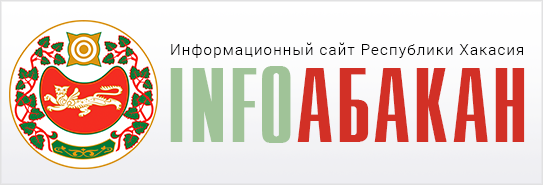
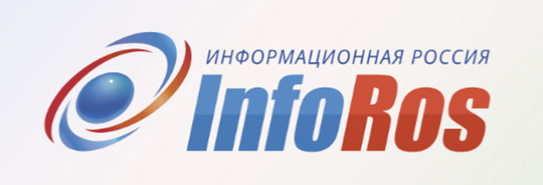
Оставить сообщение: